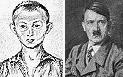
Шмиэл Сандлер
Белокурая бестия
Учитель всегда выделял и жалел этого диковатого подростка, считая его тонкой и впечатлительной натурой, чуждой тому грубому окружению, в котором он жил.
— Насколько я знаю Ивана, — с лучезарной улыбкой пророка сказал князь Коршеницкий, — его нельзя сломать, его можно только убить.
— Что, собственно, я и собираюсь сделать, ваше сиятельство, — игриво сказал Диц.
Вытащив из кобуры парабеллум, он подошел к обессиленному гному, пытавшемуся из последних сил ползти по снегу, и хладнокровно выстрелил ему в ухо. Выстрел был произведен под особенным (одному лишь лейтенанту известным) углом и череп широкоплечего парня раскололся как яичная скорлупа. Кровь и мозги, фонтаном вздыбившие воздух, забрызгали лейтенанту сапоги. Не нагибаясь, лейтенант брезгливо вытер сверкающий глянцем носок сапога о белые кальсоны арестанта, затем деловито вложил пистолет в кобуру, и, улыбаясь, подошел к своей юной подруге.
— Дорогая, я приготовил тебе сюрприз, — сказал он, как ни в чем не бывало, и нежно коснулся губами ее изящных пальчиков. Он полагал, что они будут дрожать от увиденной кровавой сцены, но ошибся: Сюзан спокойно и с холодным интересом (как ему показалось) смотрела на своего великолепного мужчину. „Браво, — в душе восхитился Диц, — рукоплещу, дорогая!“
* * *
На следующий день Карл Диц призвал на допрос помилованного им предателя Зингеля:
— Надеюсь, вы понимаете, Зингель, что вас ждет военный трибунал? — вкрадчиво сказал он, перебирая тонкими пальцами остро наточенный карандаш.
Зингель молчал. Он не ошибся, у него было воспаление легких, но недаром ведь он аптекарь, две сильнодействующие таблетки, принятые накануне, восстановили его почти полностью. Он мог бы достойно ответить лейтенанту, но говорить уже было не о чем. Он уже давно приготовился к худшему и ему хотелось лишь одного — поскорее отдать оставшееся золото в руки старого безумного учителя, чтобы тот передал его своей внучке. Может быть, кто-нибудь из русских солдат проявит такую же доброту к его Барбаре, когда закончится эта ужасная война.
— Я готов забыть все, Зингель, — отчетливо и намеренно громко произнес лейтенант, полагая, что тот все еще пребывает в болезненном забытьи и плохо слышит окружающих, — но вы поможете мне в одном деликатном деле.
Ефрейтор с трудом поднял все еще тяжелую после болезни голову. „Что еще затевает этот ненасытный хищник? От него так и прет духами, а он после простуды не выносит сильные запахи“.
— Знаете вы что-нибудь о Петрове?
— Не больше вашего, господин лейтенант.
— Отвечайте обстоятельно, ефрейтор, если вам дорога жизнь. Я бы за нее не дал сегодня и двух копеек, говоря строго по-русски.
— Кажется он из противников советской власти...
— Вот именно, он пострадал от Советов, прятался в лесу, и по моим сведениям поддерживал его в эту нелегкую пору не кто иной, как ваш старый знакомый — Федор Симаков.
— Но ведь он сам сдал Симакова вам, — удивился Зингель, — какой же у него был расчет?
— Поэтому я и спрашиваю вас, дорогой Зингель, что это — предательство или черная неблагодарность?
— Почему вы спрашиваете об этом меня?
— Вы у нас специалист по русской душе, крестьян лечите, девочку в лес переправили, может, вы дружите с гномами, Зингель?
— Не знаю я никаких гномов...
— Об этом потом, ефрейтор, а пока, отвечайте по существу...
— Русские помнят добро, — хмуро отозвался Зингель, — Петров не мог просто так сдать человека, спасшего ему жизнь.
— Я уверен, ефрейтор, что здесь замешана женщина и хотел бы узнать об этом подробнее.
— Бессилен вам помочь, господин лейтенант.
— Петров ушел с майдана не в себе. Вы заметили это?
Зингель возмущенно молчал. Он не помнил Петрова на майдане. „На тебя бы, сволочь, петлю накинуть — посмотрел бы я, кого бы ты замечал в это время...“
Обвинение в том, что он связан с гномами, было ему не по душе. Этот гад явно шьет ему дело. Но что это меняет? Все равно его расстреляют. И все из-за этого хладнокровного убийцы, который играет его судьбой, словно пешкой на шахматной доске.
В эту минуту он вдруг подумал, что точно также, как страстно он желал смерти Кригера вчера, когда помог бежать внучке учителя, точно также ему хотелось теперь уничтожить это страшное и безжалостное животное, мучащее его своими подлыми вопросами. У него уже был опыт убийства человека. Почему бы ему не уничтожить еще одного гада, но на сей раз самому, а не руками Ивана?
Эта мысль была для него новой и соблазнительной. Он почувствовал в груди дикий восторг и упоение. Улетучился вечно сковывающий его страх — перед людьми, обстоятельствами и жизнью. Он принял решение. Ему стало легко и свободно, будто и не болел он вчера вовсе, а впереди его ждало безоблачное счастливое будущее. Как просто, оказывается, быть счастливым в этом безумном мире: убил человека и нет проблемы.
Он знал, что должен совершить это убийство. Это был именно тот поступок, которого так не хватало ему в прежней жизни. Иногда добрым делом может быть убийство недоброго человека. Однажды он должен был решиться на дело, достойное настоящего мужчины, и время для этого, кажется, настало.
— Вы что, заснули, Зингель, эй? — Карл Диц оторвал ефрейтора от сладких дум, — отправляйтесь-ка вы к старосте, дружище, он испытывает к вам симпатию, как к доброму либеральному немцу, напоите его шнапсом и узнайте, почему ему так неблагородно наступил на хвост Федор Симаков.
— Зачем вам это?
— Любопытной Варваре нос оторвали, Зингель!
Эту пословицу он слышал вчера от Сюзан и был рад, что смог удачно применить ее сегодня. Это было очень даже к месту, точно так же, как было к месту слово „коленкор“, которое он применил в разговоре с учителем на казни.
— Но вы сами можете все это узнать лучше, чем я.
— Конечно, я мог бы выбить у него показания методами моего друга Штайнера, но я против пыток, Зингель, вы же знаете... предпочитаю действовать убеждением.
— Да, я знаю, — сказал ефрейтор, вспомнив, как этот зверь убеждал учителя принести своих певчих птиц в канцелярию.
— Вот и прекрасно! Если вам удастся разговорить старика, я готов забыть о вашем преступлении. Это приказ, ефрейтор, можете идти.
* * *
В глубине души Диц полагал, что у ефрейтора (после того, как он понял, что терять ему нечего) хватит смелости бежать, пусть даже к гномам... Все-таки это лучше, чем предстать перед безжалостным трибуналом. Но он ошибся. К вечеру Зингель послушно вернулся в канцелярию, и, судя по лихорадочному блеску в воспаленных глазах, был заметно чем-то возбужден.
Как всегда аптекарь не знал, с чего начать, и, страдая от нерешительности, тупо переступал с ноги на ногу, ожидая наводящих вопросов со стороны насупившегося лейтенанта.
„Скотина!“ — с огорчением подумал Диц. У него было нехорошее предчувствие, что Зингель намеренно сорвал прекрасно задуманный им план финальной игры с Иваном.
— Что случилось, ефрейтор, Петров не стал с вами пить шнапс?
— Никак нет, господин лейтенант. Я нашел его мертвым.
— Что такое, убили гномы?
— Он повесился.
Лейтенант рассмеялся:
— Вы знаете, Зингель, что говорят русские в таких случаях?
— Нет.
— Умер Максим, ну и хрен с ним!
— Его звали Савелий.
— Это не имеет значения. Он оставил предсмертную записку, где она?
— Откуда вам это известно? — подозрительно спросил ефрейтор.
— Люди имеют обыкновение оправдывать свою слабость, Зингель. Вы уже знаете содержание записки?
— Мне прочла ее мать Павла Хромова. Мальчика, которого вы убили.
— Вы, кажется, обвиняете меня в чем-то, Зингель?
— Просто напоминаю вам, о ком идет речь.
— Мне не надо ничего напоминать, его портрет висит у меня за спиной, этим все сказано. Я надеюсь, что с вашей помощью, вскоре смогу повесить рядом портрет еще одного храброго юноши, Зингель.