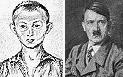
Шмиэл Сандлер
Белокурая бестия
— Развязать им руки! — отрывисто скомандовал лейтенант, и, повернувшись к Сюзан, стал серьезно излагать ей инструкцию о порядке казни через повешение, которую вычитал накануне в тюремном справочнике Штайнера.
— Обычно развязывать висельникам руки не рекомендуется, — сказал он с ученым видом, продлевая мучительное ожидание десятков людей вокруг помоста, — человек начинает хвататься за веревку, и это считается не очень гуманным, среди иных теоретиков, но я лично полагаю, что перед кончиной смертник должен быть свободен в своих движениях. Ему не поможет никакое хватание петли, дорогая...
— Почему ты все это мне рассказываешь? — прервала его Сюзан с недоумением.
— Когда выбиваешь стул из-под ног казнимого, — продолжал Диц, не отвечая на ее вопрос, — то резкое падение (при условии, что веревка достаточно длинна) ломает ему шейные позвонки и он, в сущности, умирает уже на этом этапе, а не от удушья, как воображают те же гуманисты.
Сюзан заворожено смотрела на первого гнома, который автоматически выполнял все, что приказывал ему пожилой солдат, и в душе не верила, что этого молодого и полного жизни парня не станет через минуту.
Солдат накинул на шею продолжавшего улыбаться гнома петлю, побелевшую от налипшего инея. Лейтенант поднял черную перчатку, руководя слаженными действиями палача.
— Да здравствует товарищ Сталин! — неуверенно крикнул молодой гном. Лейтенант резко опустил перчатку; солдат поднял ногу, чтобы выбить табурет из-под ног смертника, но в эту секунду раздался громкий выхлоп выстрела и палач, извиваясь в смертельном танце, упал на мокрые доски помоста.
Лейтенант молниеносно вытащил пистолет из кобуры, но тут же сунул его обратно:
— Не стрелять! — скомандовал он встрепенувшейся вокруг охране. Он знал, что нежданным гостем мог быть только Иван. Он нутром чувствовал его дух. Он был уверен, что Иван обязательно придет к майдану, чтобы воспользоваться прекрасной возможностью — пальнуть в него разочек на глазах у любимой пассии. О том, что Сюзан тоже явится на казнь он, конечно, не ведал, но мог догадываться.
Они давно уже действовали и мыслили в одном русле. После позорного случая в спальне, лейтенант будто сроднился с Иваном и воспринимал себя как некое духовное продолжение своего заклятого врага. Он не сомневался, что и Ваня чувствовал нечто подобное по отношению к нему. Они были как два неразлучных брата-близнеца, которые не могут жить, не думая, и не видя друг друга. Не зря ведь староста так нервничал, поглядывая в сторону леса: явно знал, каналья, что сынок заявиться в гости.
Кажется, Иван научился стрелять в цель. Браво, Ваня, рукоплещу! На сей раз, надо полагать, он не промахнется, пытаясь пристрелить коменданта.
У него в запасе одна пуля, если считать ту, которую он сейчас израсходовал на палача.
Партизаны разом спрыгнули с помоста. Один из них подвернул при падении ногу, попытался подняться, но у него подломились руки и он остался лежать на снегу. Двое других, петляя, падая, и увязая в сугробах, побежали к лесу. Зря он приказал развязать им руки.
„Трусы, — насмешливо подумал лейтенант, — оружие палача можно было прихватить с собой. Но откуда стреляет наш молодой мститель?“
И тут он увидел Ивана. Он стоял на крыше соседнего дома и спокойно целил ему в лоб, за спиной у него висел автомат Кригера. Почему он не воспользовался им? Потому что боялся задеть Сюзан, она стоит вплотную к нему. Трогательная забота с его стороны, но она ему может дорого обойтись.
— Не стреляй, сынок! — раздался в звонкой морозной тиши задушенный крик Петрова.
Задыхаясь от стылого воздуха, обжигающего ему грудь, он подбежал к офицеру и бухнулся перед ним на колени.
— Оставь его, ваше благородие, неразумный он, дитя! Век буду помнить твою доброту.
— Встань, старик, — сказал ему Диц со снисходительной улыбкой, — твой сын готов погубить родного отца, ради любви к чужой женщине. Не так ли, Иван?
— У меня нет отца, — угрюмо отвечал Иван, не глядя на старика.
— Не губи себя, Ванюша! — затравлено прошептал староста, внезапно потеряв голос. Но Иван не ответил ему.
Глотая спазму и, размазывая по дряблым щекам соленые слезы, Петров униженно поклонился лейтенанту, в беззвучной мольбе о пощаде.
— Он у меня один, ваше благородие, — сказал он, но лейтенант брезгливо обошел старика, и, заложив руки за спину, с улыбкой обратился к сопернику:
— Ты можешь стрелять в меня, Иван Савельев, но она тебя не любит.
В голосе его слышалось злорадство и страстное желание раздавить врага морально.
— Пусть скажет об этом сама, — громким ломающимся голосом потребовал Иван.
Он был в телогрейке, на голове шапка ушанка, горло перехватывал синий шарф, доставшийся ему в наследство от матери (вещи которой, как зеницу ока, берег старик). Натужный кашель раздирал ему грудь, но он, боясь за твердость руки, сдерживался из последних сил.
Иван не видел Сорванца уже две недели, а она даже не смотрит ему в глаза. Почему? Боится или чувствует себя виноватой, что не умерла в ту ночь, когда ее забрали в канцелярию, предпочтя стать наложницей немца? Для него все это не имело никакого значения. Важно было только то, что он любит ее. Он вырвет девушку из рук ненавистного коменданта, пусть даже для этого ему надо будет поднять на ноги всех своих лесных друзей. Но почему она молчит?
Потупив взор, девушка будто решалась на что-то. Молчание стало гнетущим. Лейтенант заволновался уже, не ошибся ли он в ней. Но она, словно почувствовав его тревогу, решительно подняла голову и твердым голосом сказала:
— Я не люблю тебя, Ваня.
Чтобы не оставлять ему никакой надежды, она порывисто схватила лейтенанта за руку, и прижалась губами к его широкой, шероховатой от постоянных тренировок ладони.
Лицо у Ивана потемнело. Он сухо кашлянул в рукавицу, поднял „Вальтер“ над головой и гулко выстрелил в синеющую ледяную высь.
— Это был твой последний выстрел, — с довольной улыбкой сказал лейтенант, — ты помнишь наш уговор, Иван?
Резким командным движением Диц поднял руку вверх и застывшие в строю солдаты восприняли это как сигнал к действию. Вслед беглецу застучали в неистовом клекоте немецкие шмайсеры, но Иван уже был на пути к спасительному лесу. Еще минута, и он скрылся в непроходимой чаще.
В лесу он вырос. Для него это был дом, в котором он не чувствовал себя таким одиноким, как в обществе людей. В школе он сумел подружиться лишь с Павлом, в смерти которого считал себя повинным. Это он дал Хромову ту роковую гранату, которая разорвалась у него в руках. Он любил людей, но люди не любили его, и он давно уже ушел бы в лес к друзьям, если бы не Сорванец, которая предала его, так же, как предал его отец — единственно близкий человек, в которого он верил, которого любил и продолжает любить, потому что нельзя ненавидеть родного отца. Можно не соглашаться с ним, не принимать его поступков, можно даже отказаться от него, но, продолжая любить и думать о нем. Любить и жалеть родных людей, но не прощать их. Есть вещи, которые нельзя прощать, ибо, если простишь, теряешь в себе ту частичку правды, в которую веришь, а без правды нельзя жить. Люди не всегда понимают это, а в лесу об этом знает каждый его обитатель. В лесу у каждого своя правда и никто никогда не отказывается от нее.
Он должен жить в лесу. Ему знаком здесь каждый куст и каждое дерево. Он знает, где можно спрятаться, где согреться, а где утолить голод, если начинает свербить в желудке.
— Ты в самом деле знаешь язык зверей? — спросила его однажды Сорванец, восхищаясь тем, что Иван ласкает и говорит почти с каждым встречным кустиком в лесу.
— У зверей нет языка, — сказал он ей грустно, — они понимают друг друга сердцем.
* * *
„Я сломал его, теперь он мой!“ — сказал Карл Диц учителю, с удивлением наблюдавшим за смелыми действиями своего любимца. Этот мальчик запросто сделал то, что не смог сделать он, старый и умудренный жизненным опытом человек.