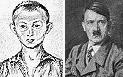
Шмиэл Сандлер
Белокурая бестия
Сюзан ни разу не спросила больше про Ваню, и это подчеркивало ее такт и благородство: высшие люди никогда и никого ни о чем не спрашивают. Все, что им нужно, они берут сами.
— Тебе хорошо со мной? — спросил он, нежно проводя пальцем по бледной ложбинке на ее девичьей груди. Ему нравилась ее застенчивость. Раньше он никогда не задавал подобных вопросов любовницам, считая это уделом глупых мужчин.
— Я люблю тебя, — тихо и доверчиво сказала девушка и вдруг заплакала, как ребенок, испытывая, очевидно, сильное влечение к нему.
— Почему ты плачешь, Сюзан? — удивился он и кончиком пальца приподнял ее нежный подбородок, с едва заметной чарующей ямочкой. Глаза у нее заблестели от слез. Он заглянул в их головокружительную бездонную синь и увидел всю чистоту ее юной невостребованной души.
— Я боюсь, что тебя убьют. — Сказала она и стыдливо спрятала мокрое лицо у него на груди.
Он был доволен. Она не просила за Ваню или учителя, она не просила даже за отца, она просто боялась потерять Его. Он гордился тем, что сумел внушить этому чистому созданию, никогда не знавшему мужской ласки, столь сильное, неповторимое чувство. „Мужчина должен обладать способностью оставить свой след в душе любой женщины“, — вспомнил он слова Гитлера и усмехнулся. Жаль, что фюрер не раздает кресты за победы на любовном фронте.
И тут случилось то, что даже он, умудренный опытом любовник, никак не ожидал от этой скромной и неопытной девочки. Впервые она потянулась к нему сама и прильнула горячим ртом к его чувственным губам.
Теперь он уже боялся причинить ей боль, но ему все время казалось, что из темноты, сверкая очками, вот-вот выступит Иван и нанесет ему в спину смертельный удар ножом. Он чувствовал это всей кожей своего тела, по которому бежали непозволительные мурашки страха. Он был излишне осторожен и напряжен в ночь ее первого признания в любви, и это не осталось незамеченным ею. Потерянный и угнетенный, постоянным ожиданием врага, он делал такие грубые ошибки в постели, которые непростительны даже очень слабому мужчине.
* * *
На глазах у притихших сельчан, под ритмичный марш „Прощание славянки“ (Диц позаботился пригласить музыкантов, для придания моменту торжественности) к деревянному помосту подвели трех страшно избитых партизан в исподнем белье и связанными за спинами руками. Симаков был четвертым. В отличие от гномов руки у него были свободны, и вид он имел цветущий. Лесничий был единственный из всех арестантов, кому разрешили остаться в обуви, остальные стояли на снегу босые, сверкая белыми кальсонами с развязанными шнурками. Розовые ступни ног начали у них понемногу синеть, но они мужественно терпели боль, выискивая глазами родных и знакомых в толпе. Одна старушка в черном платке запричитала, как на похоронах, но на нее зашикали соседи: „Тихо, бабуня, счас тя заместо них повесют!“
Увидев дочь под руку с немцем, Федор яростно захрипел, как попавший в капкан зверюга. Испитое, круглое лицо его вздулось от гнева. Но она даже не взглянула на него, вызвав подлинное восхищение лейтенанта.
Гретхен была удобной женщиной его круга, и он принимал ее любовь как должное, а эта девочка из другого теста. Она из тех, кто повелевает и разбивает сердца. Такая женщина под стать великому полководцу, покорившему весь мир. Да, ей нужен именно такой мужчина как он, и она, несомненно, та женщина, которую подсознательно, всю жизнь, искал он.
Карл Диц ждал, что она попросит за отца (он и так сделал многое, оставив его в обуви) или старого учителя, но она не стала просить за них и он понял, что не ошибся в ней.
Старика Корша почти волоком подвели к лейтенанту.
— Герр учитель, — сказал Диц, — староста сказал мне, что вы князь Коршаницкий. Это правда?
— Да, это правда.
— Это другой коленкор, господин учитель, я готов отменить казнь.
— Не стоит затруднять себя, господин лейтенант, мой бывший титул не дает мне преимуществ перед Богом!
— Здесь распоряжаюсь я, а не Бог! — холодно бросил Диц и отошел в сторону. Этот странный старик не был коммунистом, как он предполагал и девочка, как выяснилось, вовсе не была ему внучкой; ее подкинула Коршу семья раскулаченных крестьян, которые сгорели заживо в своей избе, не желая отправляться в сталинские лагеря.
Лейтенант не мог объяснить мотивы нелогичного поведения учителя. Его не связывали родственные узы с девочкой и у него были серьезные счеты с Советами. Он мог найти в нем верного союзника, а предпочел спасать лесных гномов, которые, в сущности, превратили его, бывшего аристократа, в жалкую ничтожную личность. Было в этом учителе какое-то тихое гордое достоинство, непонятное Дицу. Может быть, это ложное понятие о чести, свойственное русскому дворянству. Он читал где-то, что молодые повесы из знатных московских семей стрелялись из-за карточного долга. В одном он был уверен абсолютно точно — не идеология руководила учителем и, конечно, не родственные чувства. Но что же — любовь к Родине, патриотизм? Ерунда! Сам Диц не был фанатиком и видел свое назначение в культивировании чувства власти и возвышении своего превосходства над другими, более низшим сортом людей.
В любом случае учитель заслуживал жизнь. Он не был одним из стада, хотя собрался умирать за него. Это были ложные принципы в понятии лейтенанта, но они принадлежали свободному человеку и он признал это.
Диц наблюдал за учителем, когда того вели под руки на помост. Сам он с трудом переставлял больные опухшие ноги. Не обнаружив в глазах старика страха, он приказал вытащить его из петли.
— Вы свободны, князь, — сказал он, — впредь не имейте дела с плебсом...
Учитель понуро молчал. В другое время он оценил бы сдержанное благородство молодого Бога, но вид ожидающих казни людей, которых он безуспешно пытался спасти, отнюдь не располагал его к диспуту.
— Поклон сбежавшей княгине, — насмешливо сказал лейтенант и, повернувшись к князю спиной, галантно поцеловал пальчики нежной Сюзан. Девушка расцвела от этого знака внимания и на глазах отца гордо оперлась на руку важного ухажера; у этой маленькой сельчанки появились манеры опытной светской дамы. „Сколь таинственна и загадочна душа русской женщины“, — подумал Диц, восхищаясь ее совершенными формами.
К виселице подвели Зингеля. В толпе прошел удивленный гул. Зингеля знали как безобидного немца, у которого за сало или молоко можно было выпросить нужное лекарство.
„Лютует Карла, чисто зверь“, — сказала старушка в черном платке.
Зингель тупо смотрел на стоявших рядом партизан и апатично ждал смерти. Воспаленные глаза у него гноились, небритое лицо пошло красными пятнами, под носом висела неприятная тягучая капля, но он ее не замечал.
Вешать его не стали. Это был психологический трюк лейтенанта, решившего довести адъютанта до животного состояния. Но Зингель впал в прострацию, глаза у него бессмысленно блуждали, дыхание стало тяжелым, все происходящее на его глазах он не воспринимал, и, кажется, совсем потерял рассудок. Он не ответил даже учителю, который поблагодарил его за спасение внучки.
Отца Сюзан отпустили домой (лейтенант не хотел ранить любовницу), и он, понурый, с дико развевающейся на ветру рыжей бородой, косолапо пошел к песчаному откосу на окраине деревни, где стоял его дом. Толпа молча провожала предателя. Симаков чувствовал спиной тяжелые взгляды мужиков. „Пошел искать смерть, — усмехнулся Диц, — что ж, достойный мужчины поступок“.
Лейтенант небрежно махнул рукой. Небритый пожилой солдат, исполняющий обязанности палача, построил гномов в одну шеренгу и помог им взобраться на помост. Для них это было некоторым облегчением: отмороженным ногам легче стоять на досках, чем на снегу. Шинель небритого солдата была пропитана инеем. Он слегка подтолкнул первого гнома к центру помоста, и стал прилаживать под виселицей табурет, на который должен был взобраться пленник. Это был молодой широкоплечий парень, с бледного лица которого не сходила презрительная улыбка. Парень был абсолютно спокоен и переживал больше за то, что стоит перед людьми в кальсонах, а не за жизнь, которую потеряет через секунду.