Иван Сальников
Осада
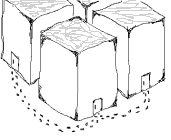
Я всегда думал, что все сложится иначе — что не будет четырех стен и тусклого света, не будет сытого спокойствия, но будет окно с видом на море и бесстыжая чайка слезливым криком станет выпрашивать у меня, чтобы я растворил ставни и обратил внимание на то, что вокруг меня и внутри — Бог, солоноватым привкусом во рту наполняя во мне море, недвижимое и непостоянное, утверждающая парадокс лодки посреди бесконечности, в котором есть точка отсчета — всегда существует такая точка, если ты твердо веришь в то, что существуешь.
Мне предложили четыре стены, отсутствие окна, вялое электричество, заключенное в 65-ваттной лампе без абажура и сытое спокойствие, от которого все рано или поздно начинают сходить с ума — костыли к душе прилаживают в одно мгновение, отказаться от них, стянуть с себя тлеющий груз не менявшейся уже десять суток одежды, окунуться в ледяную речку, что текла возле нашего домика за 55 километров от МКАДа — чтобы вернуться в то изначальное свое положение бессмысленного ребенка или полного жизни подростка, или — еще не отчаявшегося найти сокровенное мужчины, необходимо чудо… Или его ежеминутное ожидание, отсчитываемое тактами пюпитра — с ним всегда легче заснуть и перестать слышать нарастающий рокот волн, наваливающихся на твое тело полногрудой женщиной и так же покорно отступающее от тебя.
Это был достаточно простой эксперимент — надо было просто ничего не делать, большей части, во всяком случае — кому-то всё же поручали работу, но чисто механическую — запечь полуфабрикат последней поставки, отремонтировать сломавшиеся коммуникации, убрать и отвезти в центр кремации очередного спятившего пропойцу или наркомана. Для нас отвели изрядную долю пространства поближе к южной границе государства — туда стекались неудачники, алкоголики, наркоманы, сумасшедшие — все те, которых я считал самыми что ни на есть настоящими, стоящими людьми. Подпитывало эту любовь государство, а я, как и другие дурачки, велся на то, что выпив изрядное количество, можно что-то увидеть, прозреть — отделившись от массы, сохранить в себе ее кинетику… Если бы психологи-фрейдисты хоть раз попытались бы представить себе социум набором физических тел, они бы быстро усвоили, что все их клиенты раскачивают лодку. Не стоит забывать о том, что помимо якобы бездны душевных эмоций, человеку присущи такие характеристики, как вес и объем — и если эти вес и объем начинают исполнять функцию, задуманную обществом — вот опять! — как асоциальную, идеальная картина испорчена маргинальными личностями, которым непременно захочется подписаться в углу этой самой картины как ее творцу.
Вот так мы и выполняли такую функцию там — люмпены, асоциальные твари, имеющие в запасе лишь необузданные желания и ни малейшего представления о том, что же должно с нами случиться здесь.
Я открыл дверь и впустил гостей к себе в номер — у нас это было своеобразное развлечение: ходить друг к другу в гости, чаще всего это были визиты вежливости — о чем можно говорить с человеком, который тоже страдает? Диалог строится на конфликте, а здесь — взаимная робость говорить о сокровенном.
Они пришли и в первую очередь закурили, каждый достал по бутылке отравы, я начал жарить бекон и вскрыл банку солений. Случилась оказия — пекарь нашего сектора, внезапно забухавший в очередной раз, обливаясь потом, принес пару багетов с чесночным соусом. Мы налили ему выпить и уже, конечно, никуда после не отпустили, так у нас оказались на столе грудинка, которую ему передал мясник для его детей и свежие овощи взвинченного дегенерата из второго сектора — он был настоящим спринтером и, несмотря на преклонный возраст, как-то умудрялся держаться на ногах в течении недельного марафета.
Разлили по рюмкам — кто-то, тихо шепча, начал читать молитву, кто-то неприлично заржал, кто-то, примостившись на табурет рядом с пекарем, подкатывал к нему и не думал отставать.
Не было имен, не было их… Были только лица — знакомые лица, малознакомые лица, незнакомые лица — и всех их одинаково принимали во всех домах.
Эксперимент был очень прост — кто-то начинал спорить, что мы-то сами по себе достаточно сложные и тонкие люди, но его часто и почти всегда грубо, обрывали.
Часто жаловались на безглазые дома, похожие на спичечные коробки — монолитные стены и одна единственная дверь — пневмолифты доставляли человека сразу к нужной квартире, так что большинство из их обитателей так и оставалось в неведении, кто же их сосед, да соседей тут в привычном понимании и не было — не было балконов, не было лестничных пролетов, не было, повторюсь, даже простых окон.
Меня сожаления по поводу того, что не с кем переброситься парой слов, всегда забавляли — вспомните дома с окнами, лестничными пролетами и прочим: окна мы чаще всего держим чуть приоткрытыми, пейзаж, подернутый грязью, летевшей на стекло, нас вполне устраивал… Окна выдавали людей, как много их вечером светилось сеткой программ по ящику, очень немногие выдавали владельцев верхним светом, обнаруживая иногда отвратительные сцены, но таких мизансцен становилось с каждым годом все меньше и меньше — экономия, нежелание видеть дальше собственных квадратов, социальная пустышка, отделанная разнорабочими на скорую руку, богатый, но мертвый, не разбавляемый даже фигурами жильцов, эстамп добропорядочной кухни.
Каждый вечер ко мне вваливался кто-то и просился остаться, я помнил, чем это грозило, но они даже и слушать не хотели — каждый вечер, я, помогая себе пинками, сгружал их в гнездо пневмолифта и спускал вниз, где ими хорошенько занималась местная полиция, набранная из таких же отбросов.
— Мне кажется, — это была первая фраза, произнесенная пекарем, которого едва попустило с похмелья и он курил одну за одной, — что отсутствие кладбища играет определенную роль в нашем… хм, обществе.
— Ничего оно не играет, — пикировал его один из гостей, мастер по ремонту техники, — у нас все же были какие-никакие удобства: разумеется, подача и вытяжка воздуха, плита, на которой можно было разогреть еду, холодильник, телевизор… Но про последнее после.
— Ничего оно не играет и не может играть, дружок, — повторился мастер. Его опухшее с похмелья лицо выражало крайнюю неприязнь к собеседнику — вообще это была всеобщая маска — у алкоголиков — отвращения к окружающему миру, иногда плаксивого разочарования, у наркоманов — затягивающая пустота выкатившихся глазных яблок — «рыбы», так мы их называли. Ничего не жрали, и большинство посетителей крематория были они, несмотря на то, что зельем любого рода нас снабжали одинаково хорошо — просто поставь в обходном листе потребностей нужное тебе количество на неделю (был, правда, лимит, но его выбухать или закатать себе в вену в одну неделю было никому не под силу) и ожидай курьерскую доставку.
— Я не говорю о христианских или мусульманских, или других обычаях погребения, я говорю о том, что человека извлекают из его ячейки и просто выбрасывают… Вот ты, например, — сказал пекарь, смотря мне в лицо, — ты бы захотел посмотреть на меня мертвого? Плюнуть или сказать что-нибудь доброе вслед?
— Тебе было бы все равно, — ответил я, — значит, по сути, должно быть все равно и мне… Ты же не будешь общаться с пустым пространством или, скажем, белой стеной… Кстати, какого цвета у тебя стены в ячейке?
— Не хочу я с тобой говорить, — плаксиво пробубнил пекарь и налил себе полный стакан.
— Не обижайся, дурак. А про цвет стен — это ты хороший вопрос задал, у меня к примеру — серые, а у тебя, смотрю — белые… В чем наебка? — засуетился очередной гость.
— Нет никакой наебки, краски не хватило и все тут, — встрял в разговор новоприбывший гость — он отличался от всех присутствовавших до него: высокий, статный, с морщинистым, обветренным лицом, ясным взглядом… Мне вдруг стало интересно — он часто ко мне захаживал и передавал кое-какие предметы, находившиеся под запретом — например, бумагу и карандаши — я был художником там и мне всегда хотелось рисовать, но жить, ни о чем не сокрушаясь, мне хотелось много больше.
Часто спрашивал у него, откуда он это достал, он отвечал резко, мол, что если я и дальше буду этим интересоваться, все исчезнет. Меня бесило то, что ничего не понимаю — во-первых, идиотизмом ситуации — зачем он это делает? Во-вторых — а нет ли в этом вреда для эксперимента?
Да, это, конечно, глупо звучит — вред, эксперимент, когда, по сути, мне должно было глубоко плевать на эту затею, как и каждому в этом… Да! В этом городе. Меня не удивляло, что здесь есть приличные люди, которые умеренно выпивают и, в общем, неплохо выглядят, о жизни в других секторах мы ничего не знали, да и не интересовались: мы видели, кого грузили на станции в вагоны и как один за другим они исчезали на каждой остановке поезда, так что примерно представляли, что за люди окружают нас в этом болоте.
С пекарем сегодня явно было что-то не так: он разорался про отсутствие смысла в таком существовании, хотя ему полагалась жена, и даже разрешили детей. Статный человек подошел к нему и выбил из-под него табурет — пекарь упал, разбив себе затылок в кровь и измазав линолеум кровью.
— Я бы посоветовал вам вести себя культурней, — кто-то решил впрячься за пекаря.
— А я бы посоветовал тебе сидеть тихо, — угрюмо ответил статный и позвал меня жестом во вторую комнату: там располагались кровать и телевизор, вмонтированный в стену.
— Вот то, о чем вы просили, — и он достал из кармана аккуратно сложенные пополам белоснежные листы А4 и карандаши.
— Вы так и не хотите рассказать, кто вы есть? — я посмотрел ему прямо в глаза — он нахмурился и ответил, — Это не имеет никакого смысла, как и вы, как и я. Делайте, что хочется.
Внезапно за нашими спинами зашипел телевизор, автоматически включавшийся в 9 вечера: «Делай то, что хочешь, дружище! — на экране возникли рожи изъеденных оспой престарелых бомжей. — Бухай, ширяйся, жри, только помни — нельзя заниматься тем, что мы тебе запретили! — на экран вылез урка в полицейской форме. — Тот, кто нарушит условия договора, выдворяется за пределы нашего города. Запомните: у нас нет денег на билет домой, также, как и у вас теперь нет дома», — загремел гимн моей родины и вниз поплыли строчки из фамилий тех, кто сегодня умер в нашем секторе.
— Слушай, ну расскажи, хотя бы, что у вас показывают по ящику.
— То же, что и вам, только нас в день столько не умирает, — ответил он и вышел из комнаты, уселся за стол и разом осушил полный стакан.
Пекарь подошел к нему сзади, выхватил из кармана нож и, ударив статного в спину, отошел, его лицо исказилось и начало безобразно дергаться.
Статный встал с табурета, повернулся лицом к пекарю и, постояв так секунд пять, рухнул на пол.
— Амба, — заулюлюкали гости, — рвем отсюда! Харэ орать! Не пизди!
Остались только я, пекарь и остывающее тело.
— Какого цвета у тебя обои, дурак? Сделай доброе дело.
— У меня — небесно-голубые, с узором, похожим на чаек, — заплакал пекарь.
Я не мог ему помочь, не мог помочь его детям, жене.
В эту ночь мне снился дом на 55-м километре от столицы. Я продал его перед тем, как уехать сюда. Посреди ночи я проснулся и нарисовал его по памяти, а с утра разорвал в клочки рисунок, встала проблема мусора — черт, теперь надо было решать, как избавиться от того, чего уже нет.
© Иван Сальников salnikov-ivan@yandex.ru
верстка — 23.04.2011