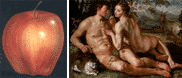
Руслан Вавренюк
Подноготная секса
Смех сквозь секс
Этнографы и литературоведы, изучавшие так называемую смеховую культуру, обратили внимание на то, что и в фольклоре, и в древних ритуалах существует тесная связь между смехом и сексуальностью. Смех выступает как жизнедатель, очистительное, животворящее начало, противоположное смерти. Как писал В. Я. Пропп, обобщая большой этнографический и фольклорный материал, „божество, смеясь, создает мир или смех божества создает мир… При вступлении в мир смеется богиня родов, смеется мать или беременная, смеется юноша, символически возрождающийся к миру, смеется божество, создающее мир“. И наоборот, юноши, проходящие в процессе инициации стадию символической смерти, ни в коем случае не должны смеяться, так как смех — прерогатива живых.
Порождение новой жизни — прообраз всякого иного творчества, но акт творчества должен быть спонтанным, праздничным, свободным от ограничений. Не случайно первобытные праздники содержали многочисленные оргиастические элементы, нарушение всех и всяческих, в том числе сексуальных, табу. Оргиастические элементы были свойственны и средневековому карнавалу.
Как считает О. М. Фрейденберг, ассоциативная связь между оплодотворением, сексуальностью, праздником и смехом распространяется затем и на сами гениталии, а также на „срамные“ слова и действия. Что смешного, собственно, в детородном органе или заменяющих его символах (например, кукише)? Тем не менее, их показ обычно вызывает смех. Оказывается, в древности существовали праздники, участники которых, чтобы вызвать смех, показывали друг другу „срамные“ вещи и говорили скабрезности. [Скабрезный — неприличный, непристойный. Прим. авт.] В средние века во время пасхальной церковной службы священник специально смешил прихожан непристойностями, вызывая у них очистительный „пасхальный“ смех.
С точки зрения психологии и нейрофизиологии, такое объяснение вряд ли достаточно. Смех может быть не только проявлением радости и веселья, но и способом разрядки эмоционального напряжения, тревоги и страха. Непроизвольный смех при виде обнаженных гениталий может быть следствием возбуждения, вызванного внезапной интенсивной стимуляцией или появлением стимулов, которые не вписываются в привычные представления и схемы. Кстати, такая реакция возможна только там, где гениталии обычно закрывают, уверен Игорь Кон.
„Смеховая культура“, о которой говорят фольклористы, подразумевает не столько спонтанные реакции, сколько особый „сексуальный“ юмор, а также связь сексуальности с праздничными, игровыми элементами общественной жизни. Тем не менее, сделанные ими наблюдения весьма существенны для изучения сексуальной истории человечества.
Просексуальные, терпимые общества обычно придают высокую ценность групповому веселью, игре и праздничным ритуалам, в которые вовлекается все население. Характерное для первобытного праздника всеобщее веселье сплачивает людей. Как писал о средневековом карнавале, сохранившем некоторые черты такого праздника, М. М. Бахтин, „даже сама теснота, самый физический контакт тел получает некоторое значение. Индивид ощущает себя неотрывной частью коллектива, членом массового народного тела“.
Напротив, антисексуальные установки христианства сочетаются с осуждением веселья и „разгульного“ смеха: в христианских текстах смеется только дьявол, а Христос никогда не смеялся. Чем жестче аскетизм, тем строже запреты, налагаемые на смех и игровые элементы жизни. Исследователи даже усматривают определенную связь между аскетизмом русского православия и особенностями древнерусской смеховой культуры. С этим связана и разная степень самоотдачи игровому веселью. В западноевропейском карнавале нет разделения на исполнителей и зрителей. „В карнавале все активные участники, — подчеркивает М. М. Бахтин, — все причащаются карнавальному действу. Карнавал не совершают и, строго говоря, даже не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют“. На Руси же знатные лица сами не участвовали в плясках и играх скоморохов, относясь к ним просто как к смешному зрелищу. Та же сдержанность, кстати, наблюдается и в изобразительном искусстве: православие никогда не допускало такого телесного обнажения, как католицизм со времен Ренессанса.
А между тем, именно в первобытном празднике и карнавальной, „смеховой“, культуре ярче всего проявляется узаконенное нарушение правил благопристойности. Поскольку в таких праздниках сильно выражены сексуальные элементы — неограниченная свобода полового общения, изменение сексуальных ролей, переодевание в одежду противоположного пола, оголение, насилование женщин мужчинами, и наоборот, — в этом часто видят пережиточную форму промискуитета или средство эмоциональной разрядки после вынужденного воздержания. Действительно, оргиастические празднества часто следовали непосредственно за периодами интенсивной хозяйственной деятельности, когда половая жизнь была строго запрещена. В этой связи, Ю. И. Семенов приводит примеры народностей меитхеев и нага индийских штатов Ассам и Манипур, индейцев Перу и пипилей Центральной Америки. Он также проводит параллель с христианским великим постом, когда веселье и половые отношения запрещались, но зато пасхальная неделя была преисполнена всевозможных излишеств.
Однако оргиастические праздники и их позднейшие пережитки „раскрепощают“ не только сексуальность. Праздник, как и „смеховой мир“ в целом, выворачивает наизнанку весь существующий, и, прежде всего, нормативный, мир культуры, выявляя, тем самым, его условность и противоречивость. И это не просто всплеск подавленных эмоций, отмечают исследователи, а скорее „акт экспрессивного поведения, который перевертывает, противоречит, отменяет или некоторым образом представляет альтернативу общепринятым культурным кодам, ценностям и нормам, все равно, являются ли они языковыми, литературно-художественными, религиозными или
В основе этого культурного феномена лежат те же психологические механизмы, которые еще в 1920-х годах выявил Корней Чуковский, изучая детские „перевертыши“, „лепые нелепицы“. Они, отмечал писатель, не только помогают ребенку укрепиться в своем знании нормы, но и привлекают его внимание к потенциальным вариативным возможностям бытия. Не случайно взаимообращение, выворачивание наизнанку, переворачивание вверх ногами предметов и их свойств неизменно присутствуют и во взрослом фольклоре: „ехала деревня мимо мужика“, „вдруг из-под собаки лают ворота“. В сущности, в символической культуре подобной перестановке, переворачиванию, подвергаются все „двойные оппозиции“: верх и низ, боги и демоны, день и ночь, люди и животные и, конечно же, половые роли, различия и признаки, начиная с одежды и кончая сексуальными позициями.
В этой связи известный английский антрополог Эдмунд Лич задается вопросом, и сам же на него резонно отвечает: „Почему кажется естественным надевать на похороны цилиндр, а на день рождения или Новый год — накладной длинный нос? Потому что подчеркнутая или, напротив, перевернутая либо отброшенная формальность одежды и (или) роли выделяет, маркирует исключительные случаи, тем самым, структурируя бесформенное время“. А Э. Геллнер добавляет: „Секс — это ролевая инверсия, [инверсия (от латинского inversio — переворачивание, перестановка) — изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить выразительность речи, прим. авт.] данная нам природой. Он привносит собственную прерывность и интенсивность, которые усиливают и иногда подрывают санкционированные обществом отношения. Дело выглядит так, как если бы в лице сексуальности природа подарила человечеству нечто вроде проторитуала, который культура легко превращает в ритуал в буквальном смысле слова“.
Сексуальный мартиролог
Мы все слышали о Зигмунде Фрейде. Но порой забываем о том, что гений его появился не на пустом месте: и до него исследовали секс, и довольно тщательно. Да и сам психоаналитик проводил свои опыты не в вакууме: наряду с ним, многие его коллеги самозабвенно и довольно плодотворно изучали вопросы пола. А это было тогда небезопасно: всевозможные рогатки и ловушки подстерегали на каждом шагу.
Официальная мораль XIX века была насквозь пропитана антисексуальными установками. Не только половая жизнь, но и весь телесный „низ“ считались грязными и непристойными, о чем порядочным людям не положено думать и, тем более, говорить вслух. В Англии даже попросить соседку по столу передать цыплячью ножку считалось неприличным, так как слово „ножка“ вызывает сексуальные ассоциации. Приходя к врачу, женщина показывала, где у нее болит, не на собственном теле, а на кукле. В некоторых библиотеках книги, написанные женщинами, хранились отдельно от книг авторов-мужчин.
Свирепствует моральная цензура. Еще в XVIII веке классики английского сентиментализма Генри Филдинг и Лоренс Стерн обвинялись в непристойности. По словам английского критика и публициста Сэмюэля Джонсона, ему не встречалось более развратной книги, чем „История Тома Джонса, найденыша“ Генри Филдинга. А Тобайас Смоллетт, вняв протестам читателей, вынужден был убрать 80 страниц из „Приключений Перигрина Пикля“. По таким же соображениям благопристойности, запрещаются произведения Пьера Беранже, Вольтера, Жана де Лафонтена, д’Экзиля Прево, Пьера де Ронсара, Жан Жака Руссо и многих других авторов.