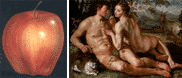
Руслан Вавренюк
Подноготная секса
— Уважаемая супруга, я полагал, что вашим непосредственным долгом является воспитание детей и наведение порядка в наших домах и поместьях. Живопись была, есть и будет исключительно моей прерогативой. Кроме того, вы всегда утверждали, что повиноваться мне — самая приятная из ваших обязанностей.
Только теперь он позволил себе треснуть табуретом о пол.
Но, по-видимому, что-то случилось с этой женщиной, ранее беспрекословно покорной. Она не ушла к себе, смиренно попросив прощения, что было бы разумнее всего. Нет, она, расплакавшись, беспомощно закончила ссору:
— Боюсь, подобными картинами вы проповедуете похоть, уважаемый супруг… Вы не способны полюбить мою душу! Для вас существует лишь мое тело.
Забрав детей и большую часть слуг, Елена Фоурмен удалилась в их особняк в Антверпене.
Кто внушил ей подобные мысли? Кто научил критиковать его, великого Рубенса? Воистину главные враги человека — это его ближние. Я могу умереть здесь в одиночестве, я, величайший художник на свете!
С нежностью глядя на лицо Елены, смотревшее на него с холста, Питер Рубенс подумал: „Разве может художник, изображая любимую женщину, каждый изгиб ее тела, не любить всем сердцем ее душу? Пожалуй, отправлюсь-ка я завтра в Антверпен и постараюсь объяснить это Елене. Да и холодно становится в замке по ночам“.
Питер Рубенс умер через несколько месяцев, — сердце не выдержало приступа подагры. Его вдова спустя 8 с половиной месяцев родила дочь Констанцию.
Елена Фоурмен хотела уничтожить картины, на которых покойный изобразил ее обнаженной, но кардиналу-инфанту, правителю Нидерландов, удалось через духовника убедить ее не делать этого.
Нет, все же Исаак Ньютон не просто был прав, говоря о том, что примеры полезнее правил; он был воистину тысячу раз прав в этом. Не знаю, как вам, уважаемый читатель, но мне теперь стало намного легче разгребать хитроумно-замысловатые умозаключения своих
Так вот, хотя средневековая культура в целом считала наготу унизительной и стыдной, обнаженное тело нередко фигурировало в публичных церемониях, да и в быту. Не только купались, но и спали голыми, по нескольку человек в одной постели. Теперь же люди начинают стыдиться своего тела. В XVII-XVIII веках нагота запрещается сначала в общественных местах, а затем становится „неприличной“ даже наедине с собой. Свидетельство тому — появление различных видов ночной одежды: шлафроков, [шлафрок (от немецкого schlafrock) — домашний халат (устаревшее), прим. авт.] пижам и т. п.
Параллельно табуированию телесных отправлений, усиливается цензура над речью. Если в Средние века и в эпоху Возрождения телесные переживания обсуждались достаточно свободно, то новый канон речевой пристойности начинает искоренять эти словечки. „В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, столь насущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? — недоумевает Мишель Монтень. — Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, — но это запретное слово застревает у нас на зубах. Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли?“
Раньше телесный „жир“ (сегодня мы это называем целлюлитом) считался признаком здоровья, благополучия и богатства, а „жирные“ ингредиенты составляли важный элемент всех народных праздников (у французов даже есть выражение les jours gras — скоромные, жирные дни). Теперь же все это оценивается отрицательно — как обжорство и прочие излишества. А правила хорошего тона запрещают держать локти на столе, чавкать, рыгать, сморкаться и т. п. Короче говоря, взят жесткий курс на дисциплинирование и языка, и тела. А сексуальность — всего лишь один из его объектов.
Однако различие между половой моралью буржуазного и феодального общества не столько в степени репрессивности или терпимости, сколько в самом отношении к сексуальности и изменении способов общественного контроля над ней. Место „внешних“ ограничений и запретов постепенно занимают „внутренние“ нормы, что связано с интимизацией сексуальности и включением ее в круг важнейших личных переживаний.
И разумеется, сдвиги происходят не только на уровне идеологических сексуальных представлений, но и в реальном, повседневном поведении людей. В традиционной патриархальной семье отношения супругов были, как правило, лишены не только психологической интимности, но и сколько-нибудь индивидуальной эротической вовлеченности. Выполняя „супружеский долг“, брачные партнеры не особенно разнообразили свои наслаждения (церковь ведь осуждала утонченный эротизм!) и уж подавно мужья не заботились о сексуальных переживаниях жен. Ритм супружеской жизни подчинялся репродуктивной функции и строго регламентировался церковными правилами.
Теперь же сексуальность постепенно освобождается от церковных оков, и все более отделяется ее чувственная сторона от функции воспроизведения потомства. Косвенным показателем этого процесса служит выработанный демографией „индекс сезонности“ зачатий, то есть среднее стандартное отклонение от месячной сезонной нормы зачатий (месяц зачатия высчитывается по датам рождения). Оказывается, что и брачная, и внебрачная сексуальная активность тогда имела значительно бoльшие сезонные колебания, чем ныне. Так, в
Хотя буржуазная культура табуирует сексуальность и ее открытую символизацию, в XVIII веке наблюдается настоящий взрыв разговоров о сексе. Причем протесты против замалчивания, цензуры — не только реакция на усиление репрессий, но и выражение роста интереса к проблемам пола, к тому же сами эти интересы стали гораздо более разнообразными.
У средневековых схоластов все „просто“: они строго различали только „дозволенное“ и „недозволенное“ поведение; остальное выглядело довольно расплывчато. Например, в их текстах, осуждающих „содомию“, часто нельзя понять, идет ли речь о гомосексуализме или об анально-генитальном контакте мужчины и женщины.
Но если Средневековье рассматривало половую жизнь, главным образом, в религиозно-этическом плане, то теперь у нее появляется множество новых ракурсов.
- В связи с возникновением социально-экономической проблемы народонаселения, репродуктивное поведение и рождаемость становятся предметом озабоченности экономистов и демографов.
- Отделение детей от взрослых и организация более или менее централизованной системы воспитания детей актуализируют проблему полового воспитания. В XVIII-XIX веках она занимает одно из центральных мест в педагогике, которая, „просвещая“ детей, старается „уберечь“ их от тлетворной сексуальности.
- С развитием медицины сексуальность становится предметом особого внимания врачей.
- Развитие права побуждает юристов заняться сексологическими проблемами и т. д.
Эта дифференцировка контекстов (политико-экономический, педагогический, медицинский, юридический, этический, психологический), в которых обсуждается сексуальное поведение, помогает осознанию его многомерности.
Но, оказывается, „нет добра без лиха“ (да позволю себе переиначить народную мудрость), — это как раз тот случай. Каждая отрасль знания стала рассматривать сексуальность со своей специфической точки зрения, то есть заведомо односторонне. И появились, разумеется, немалые проблемы. Лес рубят — щепки летят. „Педагогизация детской сексуальности“ (по выражению Мишеля Фуко) на долгие годы свела ее к проблеме мастурбации. А „психиатризация сексуальных наслаждений“ подчинила их псевдобиологическим представлениям о „норме“ и „патологии“, вызвав к жизни новые необоснованные страхи.
Короче говоря, налицо не столько „подавление“ или „замалчивание“ половой жизни, сколько формирование иного типа сексуальности. Если Средневековье подчиняло сексуальное поведение индивида задаче укрепления его общественных, семейных, родственных связей, то буржуазная эпоха, „расщепив“ сексуальность, столкнула лбами генитально-эротическую и „высокую“ любовь. И в
В произведениях сентименталистов и романтиков „чистая“ любовь в значительной степени десексуализируется: ее описывают исключительно в нравственно-психологических терминах уважения, нежности и религиозного экстаза. В этом духе переосмысливается и прошлое. Так, из „куртуазной любви“ трубадуров тщательно изымается свойственная ей эротика, и она подается как пример исключительно платонического чувства, в основе которого лежат поклонение Мадонне или нормы вассальной верности.